Авиация в помощь
14.10.2022
Вячеслав ФИЛИППОВ
gazeta@ks.chukotka.ru
В проекте «Век полёта» газета «Крайний Север» продолжает рассказывать об истории отечественной гражданской авиации, которой 9 февраля исполнится ровно 100 лет. В прошлом выпуске мы остановились на рубеже 20-х – 30-х годов. За несколько лет до этого советские самолёты стали осваивать дальневосточное небо, пока в основном с помощью перелётов, нацеленных на рекорды по времени и дальности. Первая регулярная гражданская воздушная линия на Дальнем Востоке появилась в Приморье. Случилось это 9 января 1930 года, когда будущий Герой Советского Союза Михаил Водопьянов с бортмехаником Николаем Аникиным и тремя пассажирами на борту совершил успешный полёт из Хабаровска на Сахалин.
С этого времени самолёт стал доставлять пассажиров из краевого центра на остров за пять-шесть часов. До появления авиасообщения с Сахалином нужно было совершить 30-суточную поездку на лошадях и собаках вдоль замёрзшего Амура, а затем по льду Татарского пролива. На командировку по делам службы человеку выдавали 2 тыс. рублей – тысячу на приобретение меходежды и тысячу на продовольствие, наём лошадей и собак. А вот билет на самолёт стоил всего 350 рублей. И это только плановые рейсовые полёты. А если чрезвычайная ситуация? Тут ни лошади, ни собаки спасти не могли. На помощь приходил самолёт.
Два пилота
Под «занавес» 1920-х годов авиация заявила о себе и на Чукотке, но не как способ перевозки пассажиров, а как незаменимое средство спасения. В конце 1929 года у мыса Северного (позднее его стали называть мысом Шмидта) в Чукотском море в прибрежной зоне был зажат льдами пароход «Ставрополь». Для спасения 30 пассажиров и команды из Владивостока направили ледорез «Литке», который вышел 7 ноября. На его борту были два самолёта «Юнкерс W-33» с номерами «СССР-177» и «СССР-182» в разобранном виде и два экипажа – пилот Маврикий Слепнёв с бортмехаником Фабио Фарихом и лётчик Виктор Галышев с механиком Иоганном Эренпрейсом. С собой они везли два сменных мотора, винты, запасные части, 7 тонн бензина и масла. «Литке» прибыл в бухту Провидения 23 ноября. Базу для спасения людей организовали примерно в 600 километрах от зажатого льдами «Ставрополя». В Провидения в разгар зимы стали готовить к полёту выгруженные на берег машины.
Вскоре выяснились интересные подробности. Относительно недалеко от зажатого льдами «Ставрополя» вмёрзла в лёд американская шхуна «Нанук». На её борту был груз пушнины, владелец судна Олаф Свенсон и его дочь Марион. Советский и американский корабли стояли неподалёку, так что команды навещали друг друга.



Пилоты американской авиакомпании Alaska Airways Дорбанд и Эйельсон смогли сесть у мыса Северного 1 ноября и вывезли часть груза. 10 ноября оба самолёта вылетели обратно из Нома, но Дорбанд по пути принял решение вернуться, а Карл Эйельсон вместе с механиком Эрлом Борландом продолжили полёт. Обратным рейсом в этот раз он хотел эвакуировать больного капитана «Ставрополя» Павла Миловзорова, но в условиях плохой видимости самолёт, по-видимому, зацепился за торос и потерпел крушение. Эйельсон и Борланд пропали без вести. Американцы попросили у СССР помощи в поисках, однако экипажи Слепнёва и Галышева долгое время из-за плохой погоды не могли приступить к полётам. Только 28 января они сели в бухте Лаврентия, а 29-го, наконец, вылетели на мыс Северный. Слепнёв впоследствии писал, что местность, над которой шёл их «Юнкерс», «не имеет почти ничего общего с тем, что изображено на картах». Через девять часов они прибыли на Северный. Здесь решили разделиться – Слепнёв вылетел искать пропавших американцев, а Галышев – спасать пассажиров «Ставрополя».
9 февраля 1930 года Виктор Галышев эвакуировал с застывшего парохода одного больного, двух женщин и двоих детей. В истории авиации этот вылет стал первым пассажирским рейсом, выполненным на крайнем севере Дальнего Востока в зимнее время.
Разбившийся самолёт и останки американских пилотов удалось обнаружить 13-17 февраля во льдах у мыса Северного. Правительство США обратилось к СССР с официальной просьбой доставить тела погибших лётчиков на родину. 4 марта 1930 года Маврикий Слепнёв на своём «СССР-177» вывез тела американских коллег на другой континент. За это время Виктор Галышев несколькими рейсами на одном самолёте эвакуировал пассажиров «Ставрополя» в бухту Провидения.

Кстати
Прибрежная коса рядом с местом гибели Карла Эйельсона и Эрла Борланда получила название коса Двух Пилотов. Спустя многие десятилетия авиадиспетчер Шмидтовского аэропорта скульптор-самоучка Юрий Дунаев установил здесь панорамный монумент в память о тех событиях. Его высота – 15 метров, длина – 35, а вес – 35 тонн. Сам автор, умерший в сентябре 2020 года, при жизни вспоминал историю создания этого памятника. Не владея иностранными языками, он точно не знал, как пишется английская фраза «The spit of two pilots» («Коса двух пилотов»). Между тем ошибку нельзя было допустить, поскольку переделывать готовый монумент – дело затратное и хлопотное. Выручили прибывшие на мыс Шмидта американцы, которые записали скульптору фразу на английском.
Спасти заключённых
В 1930-х годах освоение чукотского неба продолжилось. В феврале 1933 года демобилизованные из военной авиации лётчики Анатолий Ляпидевский, Фёдор Куканов и Сигизмунд Леваневский в числе других «отставников» перешли на работу в гражданский флот. Направили их на осваиваемый Дальний Восток. Куканов сразу попал в полярную авиацию и был назначен на зимовку на мыс Северный. Ляпидевский вначале летал линейным пилотом по трассе Хабаровск – Сахалин, но после встречи с Кукановым принял решение перейти в полярную авиацию. В это же время Леваневский после перегонки с Чёрного моря в Хабаровск летающей лодки Дорнье Валь «СССР Н-8» получил распоряжение вылететь на поиски пропавшего на Чукотке американского пилота-рекордсмена Матттерна. Вторым пилотом к нему в этот полёт назначили Фёдора Куканова. Пока они добирались до Анадыря, потерпевшего аварию Маттерна нашли чукчи и привезли туда же. Леваневский с Маттерном вылетели в США, а Куканов получил в Анадыре самолёт ЮГ-1 «СССР Н-4» и, несмотря на его крайнюю изношенность, со вторым пилотом Георгием Страубе приступил к аэрофотосъёмке Чукотки.
С 5 сентября Куканов зимовал на мысе Северном. В его экипаже также были штурман Освальд Траутман, бортмеханики Николай Аникин, Владимир Шадрин и Семён Куква.
В это время у мыса Биллингса на вынужденную зимовку стала группа судов колымского рейса – «Анадырь», «Хабаровск» и «Север». Они везли смену строителей порта Амбарчик в устье Колымы после зимовки, но не успели вовремя выйти и на обратном пути вмёрзли в лёд у мыса Биллингса. Пассажиры (есть сведения, что большая часть из них были заключёнными) оказались истощены, многие болели цингой. Продовольствия не хватало, требовалась срочная эвакуация. Кроме Куканова, который базировался в 200 километрах на Северном, вывезти людей было некому. Команды застрявших пароходов подготовили ледовый аэродром в 2 километрах от кораблей. Первый спасательный рейс к мысу Биллингса Фёдор Куканов совершил 13 октября 1933 года.

В том же октябре 1933 года во Владивостоке для отправки на Чукотку подготовили два самолёта АНТ-4 (лётчики – Анатолий Ляпидевский и Евгений Конкин), которые взял на борт пароход «Сергей Киров». В Авачинской бухте машины перегрузили на пароход «Смоленск». В бухту Провидения они прибыли только 20 ноября, и потому принять участие в спасательной экспедиции не успели.
Между тем Куканов, выполнив 12 тяжёлых и опасных полётов, между мысами Северным и Биллингса, вывез с вмёрзших кораблей 96 человек, включая семь женщин и шестерых детей. Обратными рейсами он доставлял на пароходы продовольствие. Кроме того, 18 человек тяжелобольных Куканов переправил в Уэлен. В конце концов, старенький ЮГ-1 не выдержал, и 17 ноября машина из-за изношенности моторов потерпела аварию, сломала шасси и надолго выбыла из строя.
По воздуху к челюскинцам
1933 год вообще стал богатым на события для нарождающейся гражданской авиации Заполярья. В ноябре началась череда бедствий у зажатого льдами и дрейфующего «Челюскина». Корабль ещё 23 сентября был заблокирован льдами в Чукотском море, однако благодаря удачному дрейфу 4 ноября вошёл в Берингов пролив и оказался в считанных милях от чистой воды. Однако надеждам не суждено было сбыться. Ледовая обстановка изменилась, и «Челюскин», на борту которого находились 104 человека, вновь увлекло со льдами на север.
Первые попытки с помощью авиации снять часть людей с «Челюскина» не увенчались успехом. Маленький Ш-2 Михаила Бабушкина потерпел аварию, изношенный ЮГ-1 Куканова сломал шасси, а два АНТ-4 пока находились на корабле.
Кроме того, из лётчиков на Чукотке было лишь два пилота, способных оказать помощь, – Фёдор Куканов и Анатолий Ляпидевский, поскольку Евгений Конкин до этого не летал на АНТ-4. В Провидения самолёты собрали, но все полёты заканчивались возвращением из-за неисправностей. Только 20 декабря Ляпидевский на АНТ-4 впервые сумел долететь до Уэлена.
Первый вылет к «Челюскину» из Уэлена тоже закончился неудачей. АНТ-4 Ляпидевского потерпел серьёзную аварию, и экипажу пришлось возвращаться на собаках в бухту Провидения за вторым самолётом. После длительного периода непогоды Ляпидевский вылетел из Провидения 6 февраля, но на полпути встретил пургу и сел в заливе Лаврентия. 13 февраля пришла радиограмма – «Челюскин» раздавлен. 100 человек высадились на лед». Через два дня последовало указание «Принять все меры к спасению экспедиции и экипажа». 21 февраля не нашедший лагерь челюскинцев Ляпидевский при посадке в Уэлене в пургу потерпел ещё одну аварию. ЮГ-1 Куканова, в свою очередь, после ремонта не выдержал взлёт и окончательно вышел из строя.
В итоге на 24 февраля на Чукотке оставался один исправный самолёт АНТ-4 и два пилота. 28 раз Ляпидевский пытался добраться до ледового лагеря челюскинцев и только на 29-й достиг его. Это произошло 5 марта.
Известна радиограмма Отто Шмидта в Москву по поводу прибытия борта номер один:
«Полярное море, лагерь Шмидта.
Сегодня, 5 марта, большая радость для лагеря челюскинцев и вместе с тем праздник советской авиации. Самолёт АНТ-4 под управлением лётчика Ляпидевского при лётчике-наблюдателе Петрове прилетел из Уэллена к нашему лагерю, спустился на изготовленный нами аэродром и благополучно доставил в Уэллен всех бывших на «Челюскине» женщин и обоих детей. Самолёт взял направление над льдом и с поразительной уверенностью вышел прямо на аэродром. Посадка и подъём были проделаны удивительно чётко и с пробегом всего на расстоянии двести метров.
Успех полёта тов. Ляпидевского тем значительнее, что стоял почти 40-градусный мороз.
Удачное начало спасательных операций ещё более подняло дух челюскинцев, уверенных во внимании и заботе правительства и всей страны. Глубоко благодарны.
Начальник экспедиции Шмидт».
Увы, во втором вылете в воздухе в районе Ванкарема лопнул коленвал мотора, и машину пришлось посадить на заструги в районе острова Колючин. Экипаж остался жив, но АНТ-4 вышел из строя. Лётчиков выручило то, что недалеко находилось чукотское стойбище, где можно было ночевать и питаться. Только 27 апреля отремонтированный ценой неимоверных усилий самолёт Ляпидевского смог подняться в небо и перелететь в Уэллен.
К этому времени всех челюскинцев вывезли в Ванкарем экстренно переброшенные на Чукотку самолёты Василия Молокова, Николая Каманина, Михаила Водопьянова, Маврикия Слепнёва и Ивана Доронина.
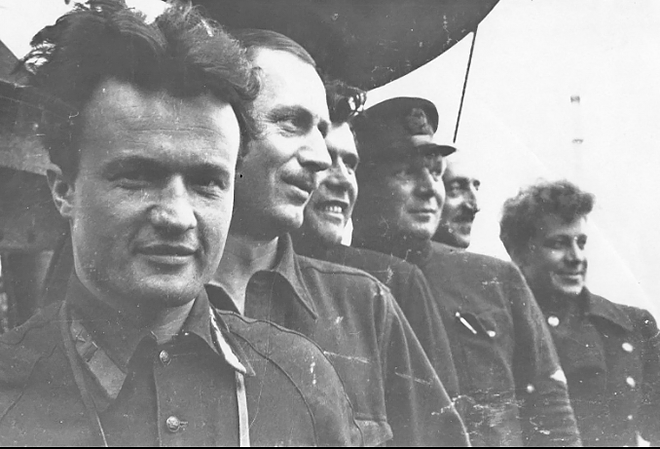
За спасение челюскинцев Анатолий Ляпидевский, первым прилетевший в лагерь, по праву стал Героем Советского Союза № 1. Такой же высокой награды удостоились Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Михаил Водопьяновов, Маврикий Слепнёв и Иван Доронин.
Фёдор Куканов, организовывавший переброску челюскинцев из Ванкарема в Уэлен и в бухту Провидения, был награждён орденом Красной Звезды. Кстати, меньше чем через полгода Куканов снова отличился – он вместе с бортмехаником Семёном Куквой был направлен в экспедицию на ледорезе «Литке» с самолётом Ш-2 «СССР Н-64» и выполнял ледовую разведку во время движения по Севморпути. По завершении этого похода Куканов и Куква были награждены орденами Трудового Красного Знамени.
Примечательно, что из семи первых Героев Советского Союза только Каманин на момент награждения был военным лётчиком, остальные шестеро – пилотами гражданской авиации. В дальнейшем их судьбы сложились по-разному, но некоторые оставались тесно связанными с ГВФ. Например, Василий Молоков в 1938 – 1942 годах занимал должность начальника Главного управления Гражданского воздушного флота, а Маврикий Слепнёв перед началом войны был начальником Академии ГВФ.
После эвакуации челюскинцев на Чукотке на мысе Шмидта (бывший мыс Северный) остались три самолёта – У-2 «СССР Н-14» Фёдора Куканова, П-5 «СССР Л-1090» Михаила Водопьянова и У-2 «СССР Н-15», на которых летал Фабио Фарих, выполняя ледовую разведку, а также доставку грузов и пассажиров с материка на зимовки.
8 июня 1932 года в Хабаровске было организовано Дальневосточное управление воздушных линий гражданского воздушного флота. В 1934 году на Дальнем Востоке работали маршруты союзного значения: Хабаровск – Оха, Хабаровск – Александровск, Хабаровск – Николаевск, Хабаровск – Владивосток, Хабаровск – Комсомольск, Петропавловск – Усть-Камчатск, Благовещенск – Владивосток, Озёрные Ключи – Иркутск, Александровск – Оха, Чита – Владивосток, Чита – Нерчинск. В этом же году Михаил Водопьянов выполнил перелёт Хабаровск – Анадырь на самолёте П-5 в зимнее время и доказал, что и на этой линии можно работать круглогодично. С 1933 по 1937 год только в Приамурье и Приморье самолёты перевезли 27 396 пассажиров, 2322 тонны почты и 801 тонну грузов. Уже к концу 1930-х годов Правительство СССР поставило задачу продления почтово-пассажирской авиалинии Москва – Иркутск до Владивостока. Реализации этих планов помешала война.

